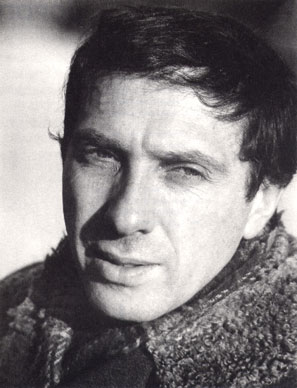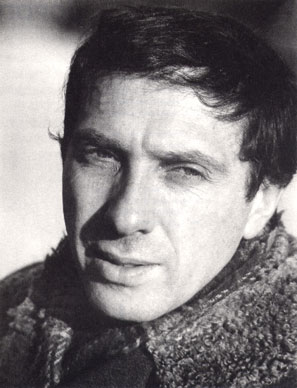Сергей Юрский
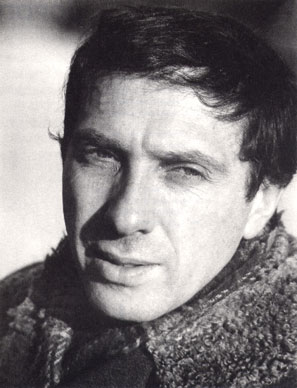
* * *
Мне странно,
Мне так это странно:
Я иду по шикарному коридору,
В руке моей дымит папироса.
Я ключом отпираю дубовую дверь.
Это я? Неужели?
Как странно.
Ведь это всё атрибуты взрослого,
Уверенного в себе человека.
Мне странно.
Мне так это странно.
Я целую замужнюю женщину,
У меня помада на подбородке.
Я провожаю её, притворяясь,
Будто я совершенно взрослый.
Будто я не стесняюсь её дочки,
Которая называет меня дядей.
1960 г.
* * *
Р.К.
Ваше платье бессильно повисло на стуле. Вы уснули.
Ну, спите.
Я тихонько вот здесь посижу, возле Вас, Вы хотите?
Незримые нити
Связали сегодня тебя и меня,
Непрочные нити.
Я так себя вёл, будто всё это очень обычно. Привычно.
Это маска.
Знала бы ты, как мне дорога твоя ласка.
Три на Спасской
Пробило. И вечер, и ночь, и рассвет –
Словно сказка.
* * *
Помню вечер до мелочей,
будто это имеет значение –
передёрнула зябко плечами
и ушла, позабыв перчатки.
На лестнице дети кричали,
шумно играя в прятки.
У соседей мурлыкало радио,
на перчатках следы от пудры,
я подумал: чего ради
я проснусь завтра утром?
Ночью
Р.К.
Зрачки в покрасневших глазах плеща,
Дверь настежь – и попросила вон!
Уйду, и не надо меня стращать,
Красноглазого и некрасивого.
Уйду, моргая больными глазами,
К мёртвым и спящим троллейбусам,
Забуду тепло твоих касаний
И любовь, подобную ребусу.
Дождливою ночью холодной
Шаги одиноки и гулки.
Застыну бессмыслой колодой
В каком-нибудь переулке.
И, рваный пиджак теребя,
Под небом отчётливо синим
Я вспомню опять про тебя
И мир окрещу твоим именем.
Гостиница «Армения»
Снова там же с тобой сидели мы вместе,
Я стихи бормотал наизусть,
И седой армянин в ресторанном оркестре
На бубне выстукивал грусть.
Клекотали пандури, звенели бутыли,
От жары и вина люди падали с ног.
Этот душный мирок мне давно опостылел –
Мир, где в блюда и в воздух добавлен чеснок.
Что мы мечемся, милая, что мы здесь ищем?
Где-то воздух, прохлада вечерней росы.
Наперчённый до одури мяса кусище
Притащил официант, нас ругая в усы.
Ты сказала опять, будто я тебе нужен.
Лучше выпьем за речку, туман и росу.
Сядь в вагон – уезжай-ка, любимая, к мужу,
Я тебя на вокзал на руках отнесу.
Снова грустный мотив – безысходный и сладкий,
Кислость вин и восточная горечь приправ.
Уезжай, уезжай! Я целую все складки
Одеяний твоих, на колени припав.
Если б был я один, то напился б до дури,
И счастливый, свободный бродил меж столов,
Подпевая волшебным напевам пандури.
Уезжай! Я молиться об этом готов.
Я б не ждал ничего – ни любви и ни мести,
Я б читал официантам стихи наизусть.
И седой армянин в ресторанном оркестре
В такт стихам бы на бубне выстукивал грусть.
В ожидании звонка, которого не было
Л.Г.
Через три часа нервно вздрогнет поезд.
Губы обкусав, я не успокоюсь.
Через три часа поплывут знакомо
Тихие леса и вокзальный гомон.
Захочу заснуть, мысли забастуют.
Вперюсь в темноту – гулкую, пустую.
Через три часа больше не увижу
Милые глаза – всех родней и ближе.
Крупная роса, паровозный грохот,
Через три часа будет очень плохо.
Любань
Песенка
З.Ш.
Возле станции Любань
Ночью плавают туманы,
а в предутреннюю рань
Очень буйная роса.
И далёкая гармонь
Сквозь большое расстоянье,
Сквозь прохладу, дрёмь и сонь
Всё выводит голоса.
Мимо станции Любань
Поезда проходят тихо.
Отдают немую дань
Этой общей тишине.
Паровоз едва дыша,
Словно старая слониха,
Проползает не спеша
Вдоль заборов и плетней.
Я во сне, как наяву,
Вижу этот мир покоя,
Где вплетается в траву
Облаков густая рвань.
Я проснулся – за окном
Шумный узел Бологое.
Я проспал давным-давно
Мою тихую Любань.
1960 г.
Утро
Памяти отца
Я проснулся на скамейке.
Я сидел в бесшумном парке
и никак не мог припомнить,
где заснул я и когда,
было утро воскресенья,
и ещё не встало солнце,
и в прудах стояла смирно
неглубокая вода.
Позабытая тревога
осторожно повернулась
где-то слева, возле сердца.
я сидел не шевелясь.
Я напряг глаза и память,
и, от мозга оттолкнувшись,
поплыла перед глазами
неразборчивая вязь.
Видел я, как плыло время
относительно спокойно,
и в его пустую реку
тихо падала листва.
В перепутанных деревьях
я искал свою тревогу,
я заглядывал со страхом
в потаённые места.
Знаете, как ищут зайца
на загадочной картинке:
между веток где-то уши,
а в корнях, быть может, глаз.
А деревья всё скрипели,
ветер дул, слетали листья,
было тихо и печально,
день родился и погас.
И тогда перевернул я
ту журнальную картинку,
тот загадочный рисунок,
тот тревожащий покой –
вверх теперь летели листья,
надо мною плыло время,
я пустые кроны клёнов
мог легко достать рукой.
В перевёрнутой природе
всё же нет ушей тревоги,
всё же нет причины зайца
и покоя не найти.
Только сломанные ветки,
только мёртвенное время
осторожно намечали
след неясного пути.
Видно, вспять поплыло Время:
сквозь могилу и сквозь слёзы
в расступившихся деревьях
я увидел вдруг отца…
Было утро воскресенья,
в перевёрнутой природе
я искал заветный узел –
связь начала и конца.
* * *
в этой унылой компании
собрались интересные люди
много смеялись и всё-таки
было чувство что мы полузадушены
может быть просто оттого
что все были слишком вежливы –
ни один себе не позволил
говорить о самом себе
поэтому мы так ничего
друг о друге и не узнали
Варшава, 18 июля 1977 г.
Без названия
Всё начнётся потом,
когда кончится это
бесконечное душное, жаркое лето.
Мы надеемся, ждём, мы мечтаем о том,
чтоб скорее пришло
то, что будет потом.
Нет, пока настоящее не начиналось.
Может, в детстве…
ну в юности… самую малость…
Может, были минуты… часы… ну, недели…
Настоящее будет потом!
А на деле
На сегодня, назавтра и на год вперёд
столько необходимо-ненужных забот,
столько мелкой работы, которая тоже
никому не нужна.
Нам она не дороже,
чем сиденье за чуждым и скучным столом,
чем свеченье чужих городов под крылом.
Не по мерке пространство и время кроя,
самолёт нас уносит в чужие края.
А когда мы вернёмся домой, неужели
не заметим, что близкие все почужели?
Я и сам почужел.
Мне ведь даже неважно,
что шагаю в костюме неважно отглаженном,
что ботинки не чищены, смято лицо,
и все встречные будто покрыты пыльцой.
Это не земляки, а прохожие люди,
это всё к настоящему только прелюдия.
Настоящее будет потом. Вот пройдёт
этот суетный мелочный маятный год,
и мы выйдем на волю из мучившей клети.
Вот окончится только тысячелетье…
Ну, потерпим, потрудимся,
близко уже…
В нашей несуществующей сонной душе
всё застывшее всхлипнет и с криком проснётся.
Вот окончится жизнь… и тогда уж начнётся.
Баку, 1977 г.
Ночной звонок
Дренькнул телефон.
Спросили, я ли это?
Сказал, что да.
Заволновался женский голос
Совсем стороннею неженскою заботой.
Заволновался – правда ли, что есть на свете правда?
Заволновался – есть ли справедливость?
И выразима ли она через искусство?
А я был погружён в свою усталость,
В попытку рассмешить себя халтурой
(снимался в неразборчивом кино),
В желанье богатеть на лицедействе,
И мне хотелось спать, а дело было
В Баку, и было очень душно,
Хотя к полуночи катилось время-вахт.
Она просила встречи – не свиданья,
И не наедине – в большой компаньи
Её друзей, которых
Она любила, видимо; которым,
Наверно, верила и всей душой хотела,
Чтоб я – заезжий либерал и демократ –
На встрече этой поддержал их веру.
А я…
Я так давно устал
От демократии, от вер, либерализма.
Отнекивался я – мол, занят, ну никак, ну не могу…
А женский голос волновался в трубке –
И так не за себя, так бескорыстно
И робко вновь спросил, да я ли это?
А я и сам спросил себя – да это я ли?
Так душно было в тот июньский вечер,
Что я не знаю, то пот иль стыд
Обжёг моё лицо волной горячей.
Я так устал и так давно мечтал
Бессмысленно и долго отсыпаться,
Что жалко случая упущенного, но…
Не сплю и слушаю растущие скандалы
В соседних номерах и пью вино сухое,
Скисающее с каждой рюмкой – очень жарко.
Кислей, кислей… На дне бутылки
Почти что уксус.
Три стихотворения Симону Маркишу
Поезд Париж-Женева
В этот поезд, где в вагоне
Не задерживался дым,
Где не слышен шум погони,
Я попал уже седым.
В эти страны Парадиза
С этим счастьем даровым,
Где весь мир открыт без визы,
Я попал ещё живым.
В это утро, в этот запах,
В эти чистые леса
Я приехал не на Запад,
Я под небо поднялся.
Почему так долго длится
Этот праздничный почин?
Почему на этих лицах
Не оставили морщин
Ни заботы, ни утраты,
Ни усталость, ни года –
Розовые, как ребяты,
Эти дамы-господа.
Хоть и стар, а вроде молод –
Зубы блещут новизной.
Здесь и холод – как не холод,
Здесь и зной – как бы не зной.
Но сильней мой горький опыт –
Как чужой на всё гляжу.
Ах, Россия-недотёпа,
Я тебе принадлежу.
Это просто ветер шалый
В мир совсем чужих кровей
Перенёс, как лёгкий шарик,
всю печаль души моей.
В этот мир, где столько света,
Где, над правдой воспаря,
И зимою тоже лето,
Я попал, как видно, зря.
Уезжая из Женевы
Как мастер сработал скрипку,
Где нет ни одной скрепки,
Где на благородном клее,
Который сродни елею,
Все части срощены крепко,
Так я бы хотел кратко
И по возможности кротко
Проститься с тобой, брат мой, –
я ухожу обратно.
На голове моей кепка,
Что ты подарил. Лодка
Скоро отчалит. Водки
Выпьем ещё – как в песне,
Много прошли мы вместе,
Нынче же чувствую – баста!
В разных мирах жить нам.
Вот подошла жатва –
Наш урожай скудный
Жертвой на День Судный
Врозь понесём. Часто
Вспомню тебя, только
Я не нашёл толка
В этом Раю – Штаты,
Франция, или что там?
Я ухожу обратно.
Время бежит шибко.
Ты сохрани шапку,
Что я подарил, – шутка,
Конечно, была… Жутко
Мне без тебя – много
Вместе прошли. С Богом!
Давай поцелуемся трижды.
Слезой проблеснёт надежда.
Сворачивает дорога.
Ты только держись, ради Бога!
Ну, вот и простились, брат мой.
Прощаясь с Парижем
Я никого здесь не оставил,
И ничего здесь не забыл.
Я просто прибыл, убыл, был.
Запомню хлопающий ставень
Среди ночи. Пустой мой дом.
Мы делали с успехом дело,
Был быт удобен. Надоело,
И вряд ли вспомнится потом.
Мне жаль вас. Холодность сердец,
Житьё без смеха и печали –
Так показалось мне вначале
И подтвердилось под конец.
Неволю с волей перепутав,
Спеша в Москву, скажу всерьёз:
Встречаю весело, без слёз
Последнее в Париже утро.
Май 1991 г.
* * *
Бессонница, подруга вдохновенья,
Наматывай мне нервы на колки,
Тяни, не больно – это пустяки,
Костёр мой гаснет – подложи поленья.
«Я пью один. Вотще воображенье»…
Что, Пушкин, брат, опять твоя рука?
Я пью один, печаль моя легка.
Брюссель и ночь, и головокруженье.
В ночь на субботу вновь проснулась боль.
Ведь если ты не спишь, и ей не спится.
Друзья, друзья! Вдали мелькают лица.
Я пью один в отеле «Метрополь».
Благодаренье Богу, я не бросил
Актёрское родное ремесло –
Полуизгнанник… полуповезло –
В чужом Брюсселе трачу жизни осень.
Я скоро здесь привыкну и тогда
Художником свободным … и ненужным
Не захочу к пустыням нашим вьюжным,
Где коркой льда покрыты провода
И где столбы скосились влево, вправо –
Не захочу вернуться. Опущусь
На дно Европы, к нищим приобщусь,
И мой чужой язык, такой корявый
Отгородит от мыслей и тоски,
Былых друзей и от всего былого.
Бог мой! Я позабуду это слово –
Былое. Сердце рвётся на куски.
* * *
Н.Т.
И дольше века длится день,
И не кончается объятье.
Б. Пастернак
И вправду кажется, что дольше века
наш длится день. Подумать, как давно
я вышел после нашей первой ночи
в асфальтовое море на Светлане /район Ленинграда/,
я обернулся, голову задрал, увидел –
ты явилась на балконе
в рубашке белой длинной. Странный танец
исполнила ты там, на высоте:
летали руки, быстрые пробежки
на маленьком бетонном пятачке
казались лёгким радостным круженьем,
а голова была закинута – вот так
прощалась ты со мной и с этой ночью.
Аккомпанировала танцу тишина,
гуленье голубей
и первого автобуса урчанье.
Тогда сказал я сам себе, что не забуду,
что бы ни случилось, я этот танец,
полный доброты,
прощанья, и прощенья, и призыва.
Вот век прошёл (да, кажется, что век!),
мы многое с тобой перешагнули,
немало создали, так много потеряли
и сами начали теряться в этом мире.
Я забываю имена и адреса,
и лица, и сюжеты прежних пьес,
по многу сотен раз мной сыгранных,
я забываю даже,
зачем я начал этот путь,
чего желал, чем клялся, с кем дружил
забыл, забыл…
но на суде,
на Страшном, на последнем,
когда мне скажут – ну, а что ты можешь
сказать в свою защиту? – я отвечу:
Я знаете ли, многим грешен, но…
(вам это, может быть, неважно, непонятно…)
я, знаете ли, я не позабыл
и никогда не забывал, как та,
что стала в будущем моей женой,
и родила мне дочь, и прожила со мной
всю грусть и прелесть этой быстрой жизни,
так вот – я не забыл, как ранним утром
она в пустынном городе – лишь мне –
ругой махала
и танцевала радость на балконе.